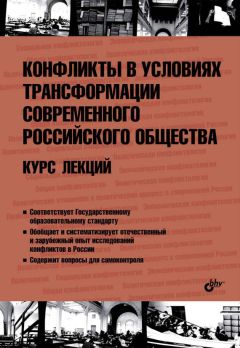Евгений Аринин - Религиоведение [учебное пособие для студентов ВУЗов]
Совершенно новые горизонты раскрываются перед философско-теологической мыслью в период эллинизма, познакомившего греков с культурами и традициями почти всех цивилизаций того времени и переплавившим греческую элитарную аристократическую образованность в стандарты международной правящей элиты. Сложилось новое, небывалое ранее уникальное культурное единство на гигантских пространствах македонской космополитической империи, сменившейся новым — римским — синтезом. Полисный патриотизм, этноцентричное презрение к «варварам» (негрекам) и приверженность традициям предков сменяется функциональным имперским «подданством»{455}. Плюрализм и эклектизм способствуют широкому культурному взаимодействию.
Исследователи указывают на характерное отличие римской народной «религии» от греческой — если у греков боги «образны», «статичны», то у римлян — «деятельны», «динамичны»: «Это ведь едва ли были какие-нибудь личности. Это — отвлеченные понятия, обозначающие те или иные действия богов, а этих действий может быть сколько угодно много»{456}. Боги здесь были не «субстанциями», а «силами или актами воли», персонифицированными функциями{457}. В латинском контексте возникает и интуиция Сенеки о «совести», как движителе человека, его моральном фундаменте и собственно «духовной» силе, ибо «в греческом языке нет термина, соотносимого адекватным образом с латинским „волюнтас“»{458}.
Цицерон, вслед за Платоном, проводит функциональное деление «убеждений» на «религии» и «суеверия»{459}. С этих позиций и само христианство достаточно долго интерпретировалось как «развратная», «суеверная» религия, «бабьи сказки» и т. п.{460} Подлинным функционированием индивида видится этатизм, беззаветность служения сакрализованному государству.
Таким образом, в дохристианский период формирования европейской духовной культуры происходит утверждение функционального понимания сакрального как деятельных незримых духовных сил, управляющих миром явлений, как субъекта бытия, интуитивно представляемого логического основания явлений наблюдаемой действительности. Миф профанирует субъективные представления о мире, утверждая Традицию как объективное, надсубъектное понимание бытия.
Дифференцируются понятия о физическом и психическом, природном и божественном. В оппозицию мифологии, складываются натуралистическое и теологическое миропонимание, «логос», профанирующий мифологию, развиваются в дискуссиях противоборствующие философские онтологии, профанирующие друг друга, вплоть до тотального субъективизма софистов. Разрабатываются критические подходы к субъективистскому пониманию бытия, профанирующие произвол индивида через универсальность этики, политики и рационализма. Сакральное обретает черты основания этих надсубъектных явлений в концепциях Сократа, Платона и Аристотеля. Физические явления выступают как функции трансцендентного сакрального. Субъективное благочестие выступает как функция политической целостности.
Функционализм не только релятивизировал представления о субъекте и объекте, но и способствовал разработке новых символических систем, которые стремились наиболее полно и непротиворечиво описать сакральное во всем его «странном», невообразимом и непредставимом в обыденных символических средствах, своеобразии, требующем столь же «странных» символических средств. Функционализм, следовательно, не только профанирует, критикует и обесценивает те или иные образы сакрального, но одновременно утверждает его новые, более глубокие ипостаси, играя не только разрушительную, но и созидательную роль.
3.2. Развитие понимания деятельного основания и динамизма
Кардинально новое понимание бытия приносит христианство, где Бог выступает как абсолютный творец всего — материального и идеального, физического и антропного, имперского и варварского. Само себя христианство противопоставляет другим «гносисам» — «традициям», «мифологиям», «философиям», «физикам», «религиям» и «теологиям» как по сути невозможное для античного менталитета и пришедшее из иного — иудейского — этнического истока, где Бог — это «беспредельное всемогущество»{461}.
Столкновение двух концепций «сакрального», удачно выразил известный врач и философ Гален: «Нашему Богу недостаточно только захотеть, чтобы возникли или были созданы вещи той или иной природы... Именно здесь наше собственное учение, так же, как и учение Платона и остальных греков ... отличается от учения Моисея. Согласно Моисею ... для Бога все возможно... Мы же так не думаем, но утверждаем, что некоторые вещи Невозможны по природе, и Бог даже не пытается создавать их. Он лишь выбирает наилучшее из возможного»{462}.
Радикально меняется отношение человека с сакральным, которое перестает представляться безличной и бесчеловечной силой, которую можно более или менее достоверно и точно «познать» и на этой основе «спастись». Такие конструктивные и рациональные отношения Библия призывает изменить на новые, «не от мира сего», где подлинная «конструктивность» видится в «любви», или «agape», а не в «episteme», не в «знании», противостоящем невежественным мнениям, или «doxa». Это, однако, не означало впадения в новое «невежество», но переход к новому духовному горизонту, потребовавшему переосмыслить соотношение «веры» и «разума», человека и мира, тела, души и духа в самом человеке.
Сама необычность «богоявления», традиционно «ужасного» и «невыносимого» для людей в прежних системах вероисповеданий, в том числе и в Ветхом Завете, создала новое духовное пространство, выйти из которого не мог уже никто — ни те, кто верил, ни те, кто активно отвергал «весть Христа»{463}. Анти-антропоморфность и анти-обыденность античной теологии столкнулась с «вызовом» живого Богочеловека, явившегося как «обычный» еврей и в личном общении язычком притч, метафор, без углубленной и отточенной философской терминологии обещающего спасение и воскресение во плоти всех уверовавших в Него. В каждом при этом вдруг открывается новая глубина, стоящая за «разумом», и кажущаяся на первый взгляд «безумием», ибо она лежит вне «ума», как рационального, безличного, общезначимого и опытного «конструирования» картины мира в понятиях{464}.
С этих качественно новых позиций начинается критика как «неподлинных», иных «религий» — и «народных» и «цивилизованных», прояснение их отношения к этой «внутренней личности», к подлинному «Я» каждого. Античный подход при этом неизбежно «функционализируется», становясь предметом экзегезы, или истолкования в свете Святого Писания, уникальной личности Христа.
Наука, автономизировавшаяся в эллинистический период, становится недостойным, перед лицом «спасения», родом «приземленной» деятельности. Идея природы как самостоятельного, материального, или, точнее, материально-идеального единства, характерная для всей Античности и архаики вообще, трансформируется в символ «трансцендентной реальности: в пределе символ разрушает природу и становится на ее место»{465}. Природа как «Вторая Книга» получает свое символическое истолкование.
Сама альтернатива «духовного (разумного)» и «материального (чувственного)», выражавшая древнейшую поляризацию «природного» и «антропного» снимается в обнаружении их фундаментального родства как «сотворенных» и «функциональных», телеологически предуготовленных для определенных целей самим «Субстратом», безначальным и беспричинным основанием всего — Богом. Бог, однако, одновременно и «акт», Творец всего сущего, Субстанция как таковая, фундаментальное начало всех видов «функционирований» вообще, любого «движения»{466}. Складывается Церковь, которая «по своему внутреннему упованию... мыслит себя христианством в его изначальной полноте и неповрежденной целостности»{467}.
Человек выступил как участник всемирной и вселенской истории, приобщиться к которой он может через евхаристию и универсальное образование. Прежний дуализм «божественного» и «материального», «добра» и «зла», абсолютно противостоящих друг другу сменился фундаментальным «монизмом» трансцендентного основания всего. «Каждый элемент опытного мира... служит символом высочайшего, предельного объекта, всеохватывающего единства, совершеннейшей реальности — Божества»{468}. Происходит «перековка ума, перековка античных форм мышления на новые, нахождение нового языка для новой истины», что и сделали Отцы Церкви{469}. Г.К. Честертон писал о «пяти смертях христианской веры», отличавшие ее от статичных и неисторичных доктрин Азии, отражая этот живой ритм «конституирования» и «революций», «нерадивости» и «радения», «внешности» и «внутреннего»{470}.